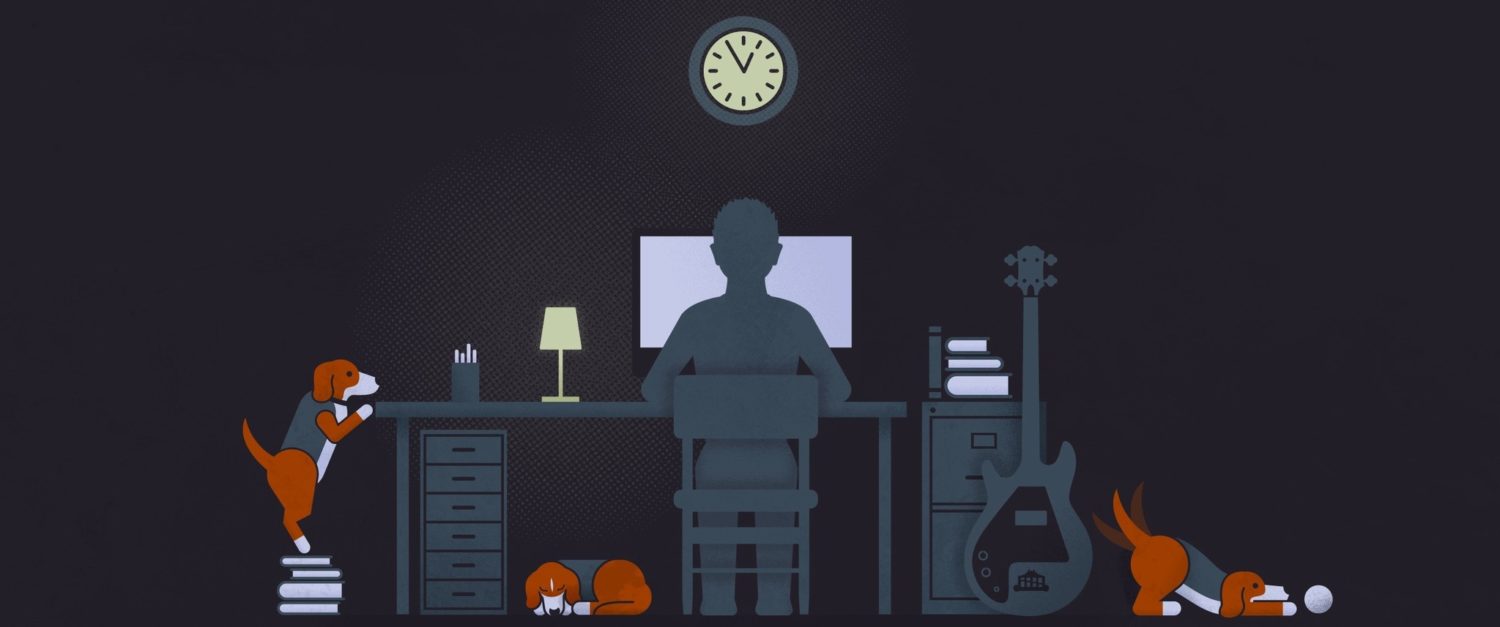Ах, кабы не плебейские звуки и вульгарная жестикуляция

В первый раз я заметила «Евгения Онегина» лет тридцать пять тому назад. В рутинной, мхом покрытой постановке Кировского театра.
В том месте было все как положено: расписной задник, хор девушек, пожилая Татьяна и совсем сразившая меня Ольга. Она была не пожилая, а открыто ветхая, толстая как бочка, в светло синий полосатом платье, с желтыми локонами, плохо напоминавшими стружку.
Эта Ольга легко подпрыгнула и запела: «Я добра… И шаловлива… Меня ребенком все кличут…»
Затем я в опере не была лет двадцать. При слове «опера» я сходу вспоминала «шаловливую Ольгу в светло синий полосочку» и вздрагивала.
Так может ушибить впечатлительного человека оперная рутина! Но авангардное обращение с классикой также не вызывает во мне никакого интереса.
При таковой степени предубежденности, представьте себе мое удивление, в то время, когда я поняла, что новый «Онегин» сперва заинтересовал, позже увлек, а позже и очевидно задел меня за живое!
Могу успокоить ревнителей старины: в сравнении с тем, что вытворяют с классикой «культовые» режиссеры на драматической сцене, мелкие шалости Чернякова — это детский лепет. Он не исказил музыкальный текст оперы, не поменял сюжета (Онегин не влюблен в Ленского, Татьяна не живет с Ольгой, а всякое бывало во главе, товарищи!).
Все на месте — и письмо Татьяны, и полонез, и «Куда, куда вы удалились» и «О жалкий жребий мой». Единственная большая новация — куплеты мсье Трике на именинах Татьяны даны Ленскому (Эндрю Гудвин).
Он, пародируя вежливое пение, нацепив клоунский колпак, пробует шутовством развеять мрак в душе и повеселить гостей Лариных. Спорно, но, в общем, невинно.
Режиссер перенес воздействие оперы Чайковского в эру «безвременья», в рассказов и атмосферу пьес А.П. Чехова, в среду мещанства, разночинной интеллигенции и опустившихся аристократов.
В том направлении, где уже нет гордой «господской» красоты, где царят привычка и косность, где все нервны, умны, несчастны, где нелепо стреляются лишние люди, а любовь обречена на муку. Что ж, писатель и композитор были прекрасно привычны, жили в одно время и, как мы знаем, как раз Чайковскому Чехов посвятил собственный сборник рассказов «Хмурые люди».
И именно поэтому режиссерскому ходу опера прекратила быть комплектом «хитов». Возвышенная сентиментальность Чайковского лишена всякой слащавости, всякого плохого пафоса.
Приведу таковой пример: в большинстве случаев арию Гремина «Любви все возрасты покорны» поют известные либо мнящие себя таковыми басы, выпятив грудь на сцене. А Черняков усаживает собственного Гремина (Александр Науменко), спокойного, рассудительного мужчину в очках, рядом с Онегиным, и Гремин ему как приятелю в интимной беседе проникновенно говорит о собственной
поздней любви.
Первые пять картин идут в одной несложной декорации — налево две двери, направо два окна, а посередине громадный стол и двадцать стульев. стол формирует образ привычки, пошлости будней, обыкновенности быта, откуда никому не разрешено вырваться. Данный мир привычки воплощают гости Лариных и радостная, разбитная хозяйка-мать (Ирина Рубцова, время от времени эту партию выполняет и сама Маквала Касрашвили).
Кого-то может и покоробить, что она наливает себе из графинчика (один лишь раз, кстати!) и с наслаждением «рукоплещет» рюмочку. Мне показалось, ничего кощунственного в этом нет, а ролька оживилась.
Лишь два храбреца немного подняты над обыденным — Ленский и Татьяна. Это уникальные люди, поэты и страдальцы, несчастные романтики.
Ленский, смешной, нелепый мальчик, всегда при блокноте, куда он пишет наивные стихи, обожает недалекую злобную мещанку-Ольгу (Маргарита Мамсирова). Прав Онегин: уж лучше бы он выбрал другую! Но родственные души проходят мимо друг друга…
Татьяна (Татьяна Моногарова) — дикая женщина с мрачно горящими глазами, порывистая, углубленная в себя. Из таких натур при вторых событиях получаются писательницы, революционерки, но на данный момент перед нами катастрофа напрасной любви человека незаурядного к человеку значительно меньшего калибра.
Да, Онегин (Владислав Сулимский) мелковат, и сам это знает. В нем нет прочной людской базы, он не состоялся по-настоящему, и в то время, когда во втором действии данный Онегин попадает в малиново-белое царство «громадного света», где и люстра на порядок больше, чем в провинции у Лариных, и стол огромней, то есть «лишним человеком» наглядно.
Ему никак не отыскать местечка в плотных последовательностях сытых разряженных людей, его все прогоняют, и бедняга приносит себе креслице сам, жалкий, но все-таки и необычно привлекательный собственной искренностью человек. «А счастье было так вероятно» Онегина и Татьяны в финале оперы звучит как милая, бедная иллюзия несчастных людей — никакого счастья у них не могло быть ни при каких обстоятельствах.
дирижёр постановки и Музыкальный руководитель Александр Ведерников во многом преуспел, хотя бы по части стирания штампов с музыки Чайковского. Но не могу не подчернуть, что хоры не звучат.
Не разобрать практически ни одного слова — не то из-за скверной акустики Новой сцены, не то из-за просчетов хормейстера. А в опере должно быть все видно, все слышно и все ясно.
Это закон таковой.
Как жаль, что у без сомнений одаренного г-на Чернякова не хватило такта в некоторых местах попридержать себя — убрать плебейские звуки (падающие стулья, чашки и т.д.) и через чур пошлую жестикуляцию некоторых персонажей, решить по-настоящему сцену дуэли (на данный момент идет какая-то невнятная путаница с охотничьим ружьем, вызывающая хохот в зале). Ничего зазорного нет в том, дабы умерить собственный произвол и уважить «господскую» культуру, главные образы национальной мифологии.
К ним, без сомнений, в собственности и скамейка в саду, где сидела Татьяна с Онегиным, и дуэль Ленского и Онегина.
Между замшелой крайностями и оперной рутиной авангардных трактовок обязан разыскаться какой-то третий, самый плодотворный путь. Очевидно, в случае если гениальные режиссеры признают, что основное — не их выдумки, а та опера, которую они ставят.
Михаил Делягин о роли общаков в работе ЦБ
Язык телодвижений: Жесты кистей рук #11