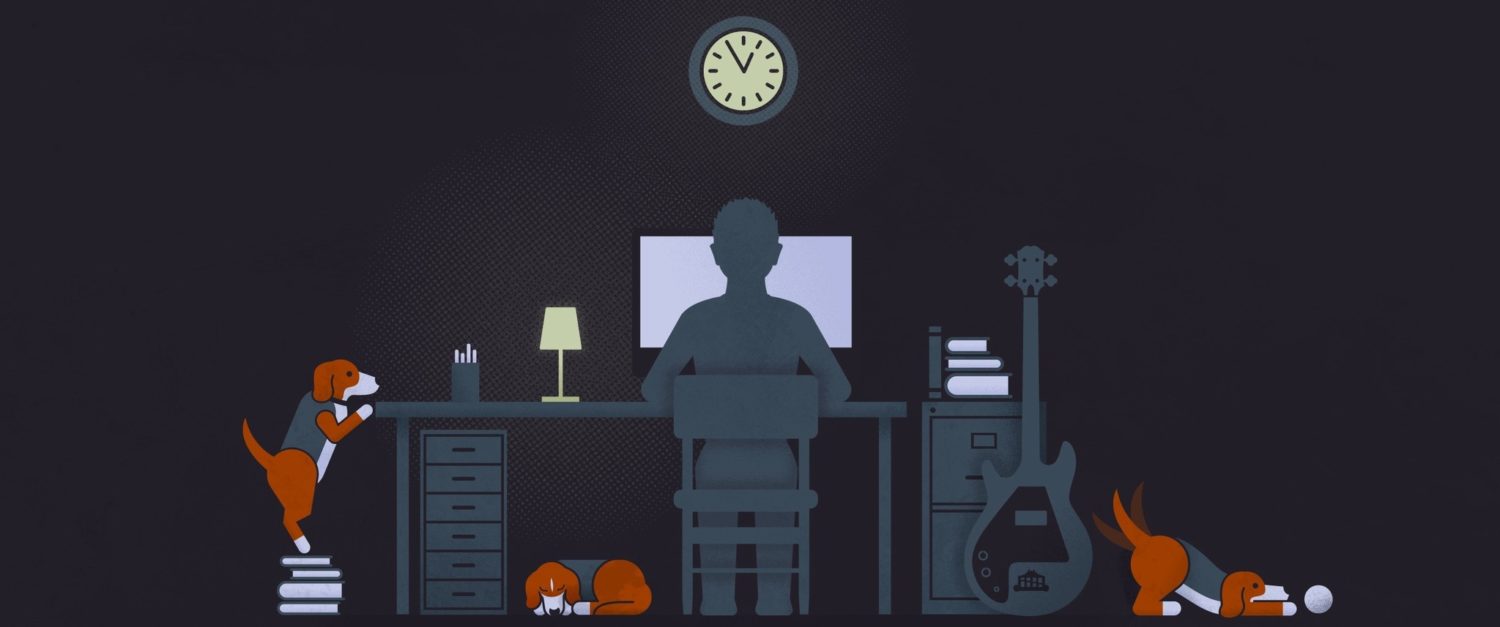Православный атеист

— Лев Александрович, любой человек — «продукт собственного времени», собственного поколения. Вас именуют шестидесятником.
Вам нравится это определение?
— Это определение я принимаю скрепя сердце. По причине того, что уже были «шестидесятники» в десятнадцатом веке. В случае если придерживаться хронологии, то мы «дети ХХ съезда», что состоялся в 1956 году, другими словами «пятидесятники».
Но этим термином именуют вторых людей на втором финише планеты. Мое поколение сформировалось до 60-х годов, и я определяю нас как «последних идеалистов», а за нами уже шли прагматики, каковые боролись за место под солнцем.
— Сейчас вы чувствуете себя россиянином либо гражданином мира?
— И то и другое. Российская Федерация входит в мир, что складывается из народов и стран.
Для меня понятие гражданин — не личностное, а личное. Оно связано с тем, что ты — частица чего-то, индивид, атом. А имеется еще чувство личности, в то время, когда ты во всем и все в тебе.
И это уже не гражданин мира, а что-то большее. Это в то время, когда человек осознаёт, что имеется что-то Полное. Именуйте это Всевышним либо отсутствием Всевышнего.
В этом смысле я некуда не убежал от христианской традиции. Не смотря на то, что всегда был и остаюсь атеистом.
— Российская Федерация как страна в течении собственной истории через мыслителей и государственных деятелей ищет себя. То мы наблюдаем на Запад, то на Восток, то ищем «собственный путь».
Что вы об этом думаете?
— Это ясно. Тот, кто попадает на эту бескрайнюю равнину, пересеченную таким замечательным хребтом, как Урал, чувствует себя частицей чего-то огромного.
Не просто так все великие завоеватели — Аттила, Чингисхан, Наполеон, Гитлер, — каковые приходили на эту территорию, именовали себя властелинами мира. Каждый народ, что тут живет, был обречен или драться с другими, или мириться под неспециализированной крышей.
А неспециализированная крыша была мировой, огромная, имперская. Имперское — это то, что объединяет противоречивое, пестрое.
В то время, когда империя падает, начинаются Карабах, Чеченская Республика, Республика Абхазия. Российская Федерация обречена быть чем-то евразийским, то ли Азией, то ли Европой.
Как превосходно сообщил Лев Гумилев: «Российская Федерация — это хрящ, наросший от трения Запада о Восток». Пропадет трение — не будет России.
Не будет противоречий, но и нас не будет.
— Вы критик, публицист, философ. Кем вы себя больше чувствуете?
— В послевоенные годы, в то время, когда я был мелким и слушал по радио статьи Белинского, я заразился «музыкой» его статей и ничего другого не мыслил, когда стать критиком . Позже, в то время, когда прочел Писарева, был опьянен уровнем вандальской свободы, которой он владел. В начале пути я именовал себя критиком . Не смотря на то, что, честно говоря, ни при каких обстоятельствах не чувствовал себя вправе осуждать тех, кто что-то пишет либо что-то делает в мастерстве.
Текст, фильм либо спектакль для меня только предлог поразмышлять на тему — что с нами происходит? На меня писатели обижались за то, что я их не раскручиваю, что не помогаю им «правдой и верой».
Приходилось ерничать, валять дурака, обучаться эзоповщине. Позже, в то время, когда пришло новое поколение, и юные стали писать в ерническом духе, они мне растолковали, что я для них «стеб производил».
С того времени меня именуют эссеистом. Время от времени именуют философом. Не смотря на то, что я этого не ощущаю и считаю, что запрещено профессионально заниматься философией.
Философствование — это любовь к мудрости, это осмысление жития-бытия. Это любой обязан делать — быть философом.
— А коммунистический человек в вашем генезисе остался?
— Само собой разумеется, он некуда не убежал.
— А в чем это проявляется? Чехов сказал, что нужно «выдавливать из себя раба»…
— Я ни при каких обстоятельствах не обожал Чехова. Горького обожал, Толстого весьма обожал, Достоевского чуть меньше обожал.
Но как сказала Цветаева: «Ненавижу Чехова с его усмешечкой». Он был очень одаренный, превосходный человек, но выдвинул весьма хитроумную концепцию свободы. Кто вам заявил, что вы рабы? Я ни при каких обстоятельствах не ощущал себя рабом.
Я знал, что имеется состояние зависимости от того, что происходит в семье, в стране, в конкретной обстановке, но при чем тут рабство?
Меня весьма обидело, в то время, когда в начале 90-х моя дочь начала употреблять слово «совок». За этим словом стояло пренебрежение к прошлому, нежелание осмыслить, что такое была советская власть.
А что было в ней основное? Основное — это коммунизм, что повесили как «морковку», за которой шел народ. А что из себя воображал данный народ? Это были русские и все те бессчётные народы, каковые около него объединились.
Это был народ рыхлый, мечтательный, всеотзывчивый, уверенный, что все его обожают, что он сам всех обожает. И вот данный народ, живущий на «евразийском блюдце», попадает в обстановку двух мировых войн, в то время, когда его полвека гвоздят насмерть.
Да так, что у него выбора не было — или превратиться в сражающуюся армию, или быть стёртым с лица земли. Вышло так, что в 1917 народ отправился за коммунистами, а не за черносотенцами, не за умными кадетами, не за вторыми партиями.
И страна, которая провозглашала, что сооружает коммунизм, в действительности строила армию, где все население было военнообязанным, все были воинами. И любое отклонение вправо, влево, каралось смертью.
Это был закон армейского времени, а не вследствие того что Сталин нехорошей. Сталин был порождением той действительности, а не источником ее.
А вера в коммунизм была анестезией, неосознанной анестезией. Дабы этому рыхлому, мечтательному народу стать армией, нужна была какая-то цацка — давайте поверим, что люди будут лучше, что люди хороши.
А я вам отвечу — отдельные люди, возможно, и хороши, но человечество улучшить запрещено. Это говорю вам я, уверенный комсомолец, что прожил 70 лет судьбе — человечество улучшить запрещено.
Возможно лишь вытерпеть то, что ему предстоит. Никакого благоденствия не будет и в будущем. И ясно, что никакого коммунизма быть не имело возможности.
Могло быть лишь конкретное улучшение тех либо иных обстановок. В то время, когда я осознал, что такое советская власть, я осознал, что это был единственный метод спасения. Сталин — нехорошей человек? Да, плохой.
Но Гитлер — еще хуже. У нас не было выбора.
Вот вам ответ, из-за чего я был советским человеком и из-за чего им остался. Я не могу выбросить данный этап из истории собственной истории и страны всего человечества.
Дикий этап. И еще такие будут. Но мне становиться чем-то вторым не пристало.
И в случае если я вежлив атеистом, я не отправлюсь в церковь, как партдеятели, каковые свечки теплят.
— Но так как человеку характерно изменяться?
— Я какое количество угодно изменяюсь, но точка отсчета, которая сделала меня личностью, не имеет возможности изменяться. Результаты изменяются, обстановки изменяются, мои реакции изменяются, изменяются люди около меня.
Но я не могу стать вторым и сообщить — я верил в то, а сейчас верю в это.
— Сейчас религия играется достаточно заметную роль в отечественном обществе.
— Нерелигиозных обстановок не бывает. Человек религиозен по природе, по причине того, что не имеет возможности своим умом объять все. Все возможно объять лишь верой. Кто-то говорит: «Верь в пень, и ты спасешься». Любой атеизм — это вера в отсутствие Всевышнего.
А я, как русский потомственный интеллигент, исхожу из того определения интеллигенции, которое дал Георгий Федотов: «Интеллигенция — это религиозный орден с отсутствующим Всевышним».
Я осознаю, что священники такие же люди, как и я, легко они на другой работе. Исходя из этого я не могу воцерковиться. А чувство Абсолюта им характерно равно как и мне. И не требуется, дабы они меня учили.
Я и без них прочел и прочувствовал Евангелие. Я могу выяснить себя так же, как Сергей Петрович Капица: «Я русский православный атеист».
— Вы ощущаете ритмы истории?
— Ощущаю. История движется замкнутыми циклами по спирали, действительно, неизвестно куда — вверх либо вниз. Мы не знаем, откуда взялось человечество, откуда взялась куда и Вселенная она идет?
Само собой разумеется, она идет к смерти. Я фаталист, по причине того, что евреи и русский — фаталисты по собственному воспитанию. «Ничему не удивляйся, — сказала моя бабушка. — Чего удивляться, в то время, когда на следующий день будет хуже, чем сейчас.
А не будет хуже, так это и имеется громадное счастье». Это иудейский вариант. А русский вариант: «А мне все по фигу. Проживем на может быть». Во мне это как-то сплелось.
Я знаю, что возможно переделать действительность в конкретной обстановке — воспитать дочь, воспитать внука. А во всем остальном я — фаталист.
Михаил Делягин о роли общаков в работе ЦБ
Лукашенко первый в мире православный атеист